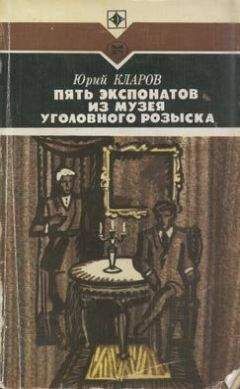- Это кто крутит? - с интересом спросил барыга.
- Ты крутишь.
С видом крайнего изумления он поочередно посмотрел на каждого из нас и всплеснул руками.
"Вышеозначенный" изображал добропорядочного обывателя, который впервые оказался в милиции и никак не может уразуметь, чего от него хотят. Честно жил, честно трудился, в поте лица добывал хлеб свой - и вот, пожалуйста. Взяли, схватили, привезли, допрашивают... А за что, спрашивается, за какие грехи? Ну если б еще старорежимные полицейские, фараоны, а то ведь свои, можно сказать, родные. И это недоумение выливалось в бурный поток слов.
- Товарищ революционный матрос, - с надрывом говорил Пушков, - ежели вы имеете хоть долю сомнений в моей преданности народной власти, казните меня своей рабоче-крестьянской рукой. Казните, дорогой товарищ матрос. Казните безо всякой жалости и сожаления. Как муху заразную раздавите, как вшу или иную какую микробу. Лучше мне принять мученическую смерть через расстреляние, нежели выслушивать ваши очень даже обидные намеки. Верьте нет, а как на духу вам все рассказал. Ничего не утаил. В чем виновен виновен, в чем нет - в том нет.
- Как же, дождешься от тебя правды, - вставил Волжанин.
- Во! Во! - как будто даже обрадованно завопил Пушков, тряся лысой головой и поглядывая на нас хитрыми глазками. - Опять намекаете. Очень даже обидно намекаете. А за что? Не знаю я того босомыжника, в смысле уголовного гражданина, что камни принес. Неизвестный он мне. Впервой его, на свою беду, увидел. А теперь вот муку мученическую за то принимаю, крест тяжкий на Голгофу несу...
- Ты понесешь! Как же! Ты и на Голгофу ухитришься на чужом горбу влезть. Чуждый ты социальный элемент, Пушков! А коли поглубже копнуть контрреволюционер.
- Товарищ революционный матрос!..
- Ну что, что скажешь?
- Неизвестный он мне, - всхлипнул барыга. - За что же вы меня всячески обзываете и намеки делаете? Какой, позвольте полюбопытствовать, я есть контрреволюционер при своем сиротском происхождении?
Матрос, которого "вышеозначенный" мытарил никак не меньше двух часов, хрипло вздохнул, глаза его приобрели свинцовый оттенок.
- Ты же, "сирота", лавочку имеешь.
Пушков высморкался в большой пестрый носовой платок, вытер глаза.
- Лавочку? - Он выпрямился, и голова его оказалась как раз под низко висящей электрической лампой. Вокруг лысины образовался сияющий нимб. Апостол да и только! - Лавочку?.. Дайте мне бумаги и чернил, товарищ революционный матрос! - решительно потребовал он.
- Это еще для чего?
- Для прошения, товарищ революционный матрос!
- Какого такого прошения?
- Желаю отказаться от всякой частной собственности. Пущай власти леквизируют у меня лавочку, а вместе с ею и шесть сиротских младенческих ртов, коих эта лавочка кормит. Пущай! Не желаю больше слушать ваши обидные намеки. Пущай эти граждане засвидетельствуют: требую бумаги и чернил!
Лицо матроса побелело:
- Издеваешься?
- Требую бумаги и чернил! - взвизгнул Пушков.
Это была та самая капля, которая переполняет чашу. У Волжанина внезапно судорогой дернулся рот, обнажив золотую подкову зубов, а рука легла на крышку коробки маузера:
- Я тебя, гада...
Пушков, втянув голову в плечи, готов был в любой момент нырнуть под стол. К матросу подскочил Сухов:
- Брось! Ты что, с ума сошел?
- Я тебя, гада...
- Успокойтесь и возьмите себя в руки! - резко сказал я.
- Что? - Волжанин со свистом выдохнул воздух и поднял на меня мутные, ничего не понимающие глаза.
- Возьми себя в руки, - повторил я.
- Пристрелю гада, - тихо сказал матрос. - Самочинно к стенке поставлю.
- Ну, ну, - положил ему руку на плечо Сухов. - Не психуй.
"Вышеозначенный", настороженно наблюдавший всю эту сцену, понял, что пронесло, и вытер платком вспотевший затылок. Он был сильно напуган. В его расчеты не входило доводить матроса до бешенства.
- А ведь детишки-то могли осиротеть, - сказал я барыге, когда его уводил конвойный. Он зло ощерился:
- Для вас все одно: что вошь, что человек.
Кажется, Пушков был из тех, кто любит, чтобы последнее слово всегда оставалось за ним.
"А Волжанина придется от дальнейших допросов отстранить, - подумал я. Лазать по трубам и учинять следствие - не одно и то же".
III
Кербель снимал квартиру в одном из арбатских переулков в бельэтаже мрачного кирпичного дома, выходящего фасадом во двор. На окнах были стальные решетки: видимо, ювелир не очень-то привык доверять полиции.
На обитой желтой кожей двери блестела табличка: "Кербель Федор Карлович".
Сухов энергично дернул за сонетку - до нас донесся звук колокольчика и лай собаки. Потом женский голос с сильным иностранным акцентом долго допытывался, кто мы, откуда и с какой целью желаем видеть Федора Карловича. Затем те же вопросы повторил сам хозяин. Он же открыл нам дверь.
- Прошу очень извинить, господа, что заставил вас ждать. Очень прошу извинить... Ганс, прекрати! Ты совсем невежливый, Ганс. Разве я тебя не учил, как надо встречать гостей? - сказал Кербель большому, стриженному подо льва черному пуделю, который зарычал на Сухова. Ювелир одной рукой взял пуделя за ошейник, а другой почесал у него за ухом. - Проходите, господа, Ганс не кусается, - сказал он. - Ты же не кусаешься, Ганс? Нет? Просто Ганс старый ворчун. Он ворчун, и он не любит запаха... - Кербель замялся. Проходите, господа.
Сухов посмотрел на свои сапоги, смущенно хмыкнул:
- Не воспринимает дегтя?
- Нет, нет, не дегтя. Он деготь любит. Он только не любит крови и оружия...
Сухов отодвинул скалившую зубы собаку:
- Кровью не я, кровью время пахнет. А оружие... Без него не обойдешься. Так что пусть кобелек привыкает к запаху оружия. Люди к нему уже привыкли.
- Он привыкнет, - заверил Кербель и нагнулся над собакой. - Ну, ну, Ганс, хватит. Перестань. Господа не будут тебя убивать. Это добрые господа. Хочешь цукер? - Он достал из кармана шлафрока кусочек сахара и осторожно положил его на нос собаки. Пудель ловко подбросил сахар и поймал его зубами. - Вот и умница. А теперь идя спать, Ганс.
С пуделем Кербель говорил не тем бесцветным шелестящим голосом, каким он беседовал со мной в патриаршей ризнице, а нежно и заискивающе; так говорят взрослые с детьми, если пытаются загладить перед ними свою вину.
В конце длинного полутемного коридора я заметил женщину. У нее было такое же щуплое, как и у ювелира, туловище и непомерно большая голова. Видимо, она и вела с нами переговоры через дверь.
- Матильда! - окликнул ее Кербель.
Женщина робко, будто даже с опаской подошла к нам.
- Предложи господам раздеться и пригласи их в гостиную. Я сейчас приду.
Женщина сделала "господам" книксен, и тяжелая голова ее качнулась вперед, а затем маятником закачалась на узких плечах.
- Я есть Матильда Карловна, - улыбнулась она, показав нам свои редкие и желтые зубы. - Федор Карлович есть мой любимый брат.
- Очень приятно, - галантно сказал Павел, который никак не мог приспособиться к обстановке и чувствовал себя неуютно.
- Господа будут любезны раздеться?
Она попыталась помочь Сухову снять полушубок, но тот поспешно стащил его сам, а потом долго и тщательно вытирал ноги.
- Прошу, господа, как выражаются русские, к нашему шалашу.
Она провела нас в большую комнату с высоким лепным потолком, где почти не было мебели, а вдоль голых стен тянулись длинные и узкие витрины. Под толстыми зеркальными стеклами на бархатных подушечках лежали неестественно большие бриллианты, рубины, изумруды, сапфиры.
- Стразы? - спросил я, остановившись у одной из витрин.
- Да, это есть стразы, - подтвердила она. - Федор Карлович делал их много лет. Он много трудился. Если бы все эти камни были настоящими, мы были бы самыми богатыми людьми в Европе и Америке. Ротшильды были бы перед нами... - как это сказать? - нищими. Да, совсем нищими. Они были бы бедными перед нами. А теперь мы бедные перед ними, потому что все это есть стразы, стекла. Но пожалуйста, берите стулья и кресла. Немен зи плятц. Прошу вас.
Я сел, но Павел моему примеру не последовал: он прилип к витринам. Сестру Кербеля это умилило.
- О, вам нравятся стразы!
- Ничего, красивые штуковины, - сказал Сухов.
- Да, да, очень красивые штуковины, - закивала Матильда Карловна. - Они совсем как настоящие. Федор Карлович делает хорошие стразы. - Она включила вмонтированные в витрины электрические лампочки - и стразы вспыхнули тысячами огней. - Вы тоже посмотрите на эти штуковины? - обратилась она ко мне. Я сильно устал за день, и мне не хотелось расставаться с мягким удобным креслом, но я все же встал и подошел к ним.
- Вот здесь самые красивые и самые большие бриллианты мира, - говорила она, постукивая по стеклу деревянной указкой, напоминающей дамский бильярдный кий. - "Великий Могол", "Звезда Африки", "Империал", "Низам", "Стюарт", "Раджа Матанский", "Кохинур", "Граф Орлов", "Великий герцог Тосканы", "Санси"... И у каждой штуковины есть своя биография.

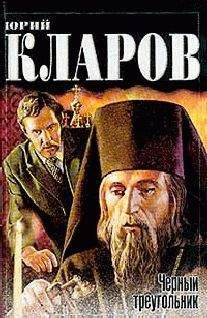
![Юрий Кларов - Пять экспонатов из музея уголовного розыска [с иллюстрациями]](https://cdn.my-library.info/books/181018/181018.jpg)